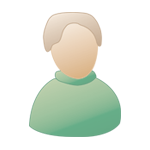Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
Профиль
Фотография
Рейтинг
Опции
О себе
Марк Кирдань
Вы ещё ничего не рассказали о себе. Это можно сделать во вкладке «Настройки». Персональная информация
Марк Кирдань
Member
Возраст неизвестен
 Пол не выбран
Пол не выбран
Проживание неизвестно
День рождения неизвестен
Интересы
Нет данных
Статистика
Присоединился: 2 Дек 08
Просмотры профиля: 103 169*
Последний раз замечен: 11 Апр 2009 - 14:31
Местное время: Nov 1 2024, 03:57
14 сообщения (0 сообщений в день)
Контактная информация
 Нет данных Нет данных
 Нет данных Нет данных
 Нет данных Нет данных
 Нет данных Нет данных
* Просмотры профиля обновляются каждый час
|
Темы
Сообщения
Галерея
Блог
Комментарии
Друзья
Содержание
26 Feb 2009
Стоит нам умирать, или верить? Косая трава –
далее благодать, неявные листья, прозрачная синева; серую небосклонь целуют сосуды-цветы... где вы, мои года, одуванчики пустоты? Солнца бы. Ивы, хлест. Качающий берег, бег маленькой стрекозы. Белый идет человек – чучело, бантики, мишура, лоскуты дрожат. Холод жует качели, согнутые дома. Мерещи тся мошкара. Солнца бы. Ветерок, тополь-бабай скрипит. Может быть, это я, внимательно говорит печальная синева, человеческий облик, вид схватившая. Хруст ветвей, долгих окон молчащий сон – здесь ли я проходил с детским еще лицом. Клинья крапивы, башни, медленный зверь плывет. Жуки, дерева, церква – золотом литых сот. Бездны песочницы, линий, преющих меж болтов яви; кора, сучки, круглы глаза костров. Эти глаза бледны – серый простор спелён странною немотой. Безлюдьем, неверием закалён. Слышу свои шаги. Ворохом гнойный клён. Десятки будто знакомых мест – дворик, пустырь, река; всё незнакомо; звенит в ушах, дёргается рука. Солнца бы. Шелухой капает с тополей, всё говорит – мерцает линза полей, полей. Всюду столбы, столпы, двери, зеркальный смог. Утро, кровью созрев, пускает животворящий сок в жилы стеклистых листьев, труб, желобков, антенн. До боли беззвучие сосен. Посланник молчит, смирен. Там сад, треугольник забора, сараи, колодцы, тлен. Вспомнить бы – воздух сырой, хризантемы, касаясь растений лбом... Пророчества детского смеха; до терпкости милый склон молчащего небосвода; сиреневый дым; коробочки на просвет – там радостно наблюдаешь, как бедствует жук-аскет. Все наши игры были презрением к маре, смерти, камням. Но мир оказался тверже, спокойней, гибельней; нам осталось лишь посмеяться. Вот велосипедные спицы, канистра, горбы безобразных мешков, дождевая вода в тарелке, акация, пакеты для червяков, сдутые стены и окна ослеплены; кошмарный дуб смеется и остывает, глядя в мою судьбу. Здесь синяя гниль, диван, раскинув снопы пружин, хранит мотыльковое прошлое; рассеянные гаражи гудят; и сияют странные миражи, над ними лопаются облака. Из каждого дома свет – и ты ли так далека – мерцанье ресниц, туманы. Здравствуй, внимательный городок. «Учиться, учиться...» кричали буквы училища на восток. Они потеряли резвость. Деревья бесцветны, оскалились водосток, аптеки, шоссе, фабричный двор, обваленная стена, решетки, крысы и с солнцем соседствующая луна, строительный мусор, штыки, мистические ужимки ниш, задворок, где смутно брезжит безумная эта тишь. Я будто бы город забыл и жил здесь всегда – куцая трехэтажка (допустим, пенаты), разорванная плита – шиповник, скамейки, стекла и где-нибудь мой двойник. вон бледный поёт, карнизы целующий, белый блик. Минутное мановенье – и юноша стал старик. Минутное мановенье – и радужная роса, куколки, трын-трава, Там музыка форм и статуй и вечная правота. Моросью выли дали, надулся ветер, кусочками пыль подняв, диковинки-плески чаек, свинцовые граи, шумит неявь. Там девушки белых лилий, там лодки качают дым, и здания возникают меж горними и земным, и звоном и звоном долгим раскрытые купола... А пó небу красный ветер, раздувший рассвет дотла, и где-то играет свадьба. От праздничного стола немедленно грянет лебедь, крылами раскинув и расколов, настойчивый горизонт, исполненный звездных львов. В расщелинах, крючьях – леший – всевидящий, многолик. стоит, призывает время, меж мёртвых, и ковыли чуть змейно кидают стебли. И неизвестные голоса рвутся, сплетаются... издали, где сморщенная полоса булыжников входит в холм. Немыслимая тошнота. Я не был прощён тобой. Гробы под тяжелым мхом, налитые синевой. Что мир? – одинокий клещ, насытившийся трухой, Старуха, моя любовь, постукивает клюкой, «Оставил нас, но зачем. Что мир твой и жизнь твоя, кем прожил ты, ухватив секунды. Скучающие края оставив; переборов безмолвие и покой Что жизнь и что призрак твой» Садимся на землю, взявшись за руки. Я кричу: «Проклятие мне, посуде, завравшемуся хлыщу» - до дрожи молчание сосен, к мерцающему плечу – спадают пушинки, рóсы – «Нам стоит ли умирать, косая трава приветствует, стонет – прозрачная благодать» Сказка о сыне, вернувшемся после скитаний в дом – «Что мир? Суета, обманка, болезнь, бессонница босиком. Раскаянье дурака – обиженные дома, обиженные столбы, старуха – все больше воздух, чернеют глаза, сквозь прорези головы муравей волочит листок, качают коробочками цветы. Старуха с укором смотрит и не прощает. Одуванчики пустоты. «Мы были тогда другие, и вечным, другим, слиты» порядочно, невозможно, восьмёрками льёт река, ботинки сияют в облаке дедушкиного табака. Что мир? Этот город скроен в пределах небытия, «Мы были тогда другие», «Вернулся сюда, скуля», Солнца бы. Ветра, мощи. Молний, разверстых сил. Молодость оставляя – вот, что тогда просил. Старое опадает. Белые лепестки. Музыка, миражи. Дева смеётся, верит. Дева, я никогда не жил.
16 Jan 2009
Здравствуйте.
Вот я совершенно ни к чему не приспособлен, и даже терминов никаких не знаю. И комбинаторика - мне темный лес, и прочее. И даже взглядов каких-либо устаканенных не имею. И к формам, кажется, тоже равнодушен. И о тенденциях ничего не знаю. Регресс? Застой? По-вашему, это нормально, или сей муж вовсе никаких букв не достоин? P.S. Предупреждая возможный вопрос, который возник у меня в голове и у кого-либо возникнет вряд ли, скажу, что область моих поисков и раздумий находится скорее вне границ языка и ближе к границам более, я бы сказал, трогательным, ну, вы меня понимаете - душа, космос, капельки росы и камешки времени, что-нибудь такое.
5 Jan 2009
Да, все похоже, где-то уже было. Электричка гулко, чуть слышно ползла сквозь ночные завеси. Пассажиры кто закатывал глаза, кто вчитывался в газеты, книги, или в расписание поездов, или в каталог правонарушений, или в график зарплат макдональса... тишину, дребезжавшую старым железом, пронзал гоготок недвусмысленных ребят, сидевших вразвалку то тут, то там. На одной из станций шаткие, вонючие двери разверлись, и в заголовок вагона вышел молодой оранжевый тип с блаженной лысиной и трепетным голоском. Он что-то говорил, до людей доносились обрывки, неясные сочетания – это была давно всем знакомая проповедь о том, например, что человек есть созвездие, есть узор, что каждый важен, что... - ...Не бывает маленьких, не бывает лишних людей! – да, да, ворковал этот юный любитель, и в его сторону одобрительно и смешливо оборачивались странные лица поздних, молодых рабочих. Поднимались тонкие как на подбор брови, тек пот по блестящим вискам, играли синие губы. Товарищи приподнимали пухлые воротники, анекдотились, но, в целом, все казались расслабленными и безучастными по отношению к оранжевому мальчику, хотя в другое время вполне могли бы за истины его проучить. Спящие качались. Неловкий, похожий на похудевшего Безухова, юноша, стоял, держась за спинку сидения тонкой рукой, едва балансируя на слабых ногах и пытаясь удержать в другой руке раскатистую книгу с «Войной и миром». Из его бокового кармана торчала всегда выпадающая в грязь шапка, и он часто оглядывался на нее, беспокоясь. Еще он вглядывался в другого юношу, вихрастого и серьезного, дремлющего с музыкой напротив. Безухову почему-то хотелось, чтобы вихрастый обратил внимание, какое красивое, интеллигентное лицо у Безухова, как расслабленно он читает классику, каким пальто обходится и при том вовсе не нуждается в вихрах, но вихрастый слушал музыку и дремал, что приводило в упадок все чувства Безухова. Рядом сидела, почти лежала пара. Квадратный, усталый, заметно крупный мужчина Поликарп неестественно изогнул весь свой торс, утяжеленный бычьей курткой, и шею, чтобы облокотиться на жену Любу. Он работал оператором в детском театре, она продавщицей в супермаркете. Ему приходилось быть на работе энергичным и способным, ей – неудержимо красивой и отзывчивой. Теперь они побросали шкуры и все будто осунулись, в особенности Любовь – позеленела, обвисла, словно злая фея провела по ее щекам злочастным заклинанием. Мысли у Любы были смутны. Поликарп думал заснуть, его сознание сцепляло различные блоки и формы давно увиденного, и он наблюдал за этим отсутствующе, сам не хозяин своей голове. Но он обнимал жену Любу, и выворачивал шею, чтобы затылком плотно оказаться на ее плече, и это страшное неудобство отбивало сон, зато он чувствовал явные прикосновения, некоторое тепло и даже приятную духоту. - Возьмите, возьмите.... – бормотал оранжевый человек, склонившись над ними, - Свобода сознания – прежде всего. Человек – узор. Мы все птицы. Мы все Богом. Возьмите... Любовь хмурила свою глубокую кожу, и продавец истин уходил. Безухов, на грани отчаяния дочитывавший главу о масонах, не находивший зрителей своему совершенству разглядывал себя в темном, электрическом стекле. Там проносились мокрые ограды, разноцветные машины и рванные сумерки. Лицо, отражавшееся частично, рассекавшееся многими огоньками и случайными тенями, приобретало харизматичную художественность, и Безухов оставался доволен. Поликарп ворочался и что-то бормотал. Одной рукой он поджал жену под бок, что и ей причиняло неудобство, но она не хотела его огорчать и молчала об этом. Краем глаза, стараясь не смотреть впрямую, она заново разглядывала его огромную, мужскую фигуру, пахнущую сигаретами щетину, пухлый рот, капризно сдавленный в полусне, жидкий ежик, на затылке уходящий в пушок и красные пятна. Огромный, страшный мужчина сдавливал хмурую, зеленую женщину в электричке, сминая ее всем своим угрюмым телом и думая о детском театре, который кстати, вызывал у него гомерическую смятенность. Любовь представляла, чем они займутся, когда вернутся домой. Надо будет быстро что-нибудь приготовить. Все голодны. Поликарп включит телевизор, Любовь пойдет в душ. Она поднимет розовую мочалку, встряхнет, рассмотрит на предмет инородных тел, и только затем вступит в ванну. Потом она выйдет из душа, Поликарп оценит ее красоту, включит музыку, и они все вместе спешно отправятся в постель. Потом обязательно будет какая-нибудь ссора с соседями, ведь тем вовсе не нравится Шуфутинский, хотя Любе он тоже не нравится, но ведь дело в другом. Поликарп включает Шуфутинского, чтобы представлять себе сытое бородатое лицо и вместе с ним бодро проживать скучные будни. Поликарп глотнет коньячку и будет стоять голый возле балкона так, чтобы с улицы его никто не видел, но чтобы дым от сигареты улетал в форточку. Его непрозрачное, тертое тело будет таким же квадратным, каким оно кажется здесь, в электричке. Любовь поговорит по телефону с подругой по супермаркету и муж обязательно, с нотками непонятного недоверия, спросит, кто звонил, хотя прекрасно будет знать и сам, кто это, ведь в зале, возле курительной форточки сам же месяц тому установил второй телефон. - Это хорошая книга, - говорил вошедший на станции Люберцы-1, человек внушительной бороды и складных черт, - Это именно то, что вам нужно. Здесь вы найдете все. Это энциклопедия для русских. Русская история, русские традиции, православная церковь. Кто интересуется историей русской православной церкви, или пусть даже славянской мифологией – прошу ко мне. Иллюстраций множество, качество отменное, все цветное, глянцевое, страниц семьсот, стоит всего лишь триста, заметьте, всего лишь триста рублей! Редкое издание... - Поликарп, Поликарп, - говорила скучавшая Люба, - давай купим энциклопедию для русских, всего триста рублей. - Зачем? – философически и вяло отзывался муж. - Ну, просто. Будет, что почитать. Сегодня почитаем. Сегодня, как и всегда, Поликарп имел определенные взгляды на то, как им провести вечер и замещать устоявшуюся норму он не то чтобы боялся, но очень, очень не хотел. Внутренне он чувствовал, что будет уже другим Поликарпом, если вдруг обзаведется цветистой энциклопедией с историей и мифами. Он много разозлился, резко вспылил, огненно зарычал при этом внезапном чувстве, в этом мгновенном осознании и несвязно сказал: - Ну, что за чепуха. Делать нечего. Денег у нас что ли много... – и уткнулся, уткнулся незабвенный карп боком к жене, так, что затрещали у самого неловкие, негибкие кости; он странно трогал ей талию и грудь, как делал бы то же самое десять лет назад, когда они знакомились и взаимно заигрывали. Сейчас подобными прикосновеньями, он интуитивно подтверждал свое бесспорное главенство в семье. Люба вздыхала, прислонялась к стеклу. Поликарп зачем-то раскрывал ее невзрачную куртку, хотя рядом были и, вполне возможно, за всем наблюдали, и вихрастый юноша, и взволнованный Безухов и другие люди – старик с тремя чемоданами, маленький бандюган, совсем недавно под страхом смертной казни отобравший у детей какую-то мелочь и теперь счастливо посапывающий рябым носом, серьезная женщина, профилем похожая на королеву Викторию, два счастливых милиционера, хихикающих о своих, всем неизвестных, обычных делах, сумасшедший поэт, в уме строящий вавилонскую башню из хлебных огрызков и планетарных чисел, молодой, подрабатывающий цыган. Люба слегка закатила глаза, и вдруг внезапная тишина, сдавленность, паника валом вонзились в нее. Что-то случилось, что-то сломалось, Люба очень хорошо чувствовала это событие, но не могла его объяснить. Она вглядывалась в кучные вены на своих руках, складно сложенных вдоль угловатой, малиновой сумочки с приятно золоченным ремешком, вглядывалась – и отчаянье, так незнакомое, так неожиданное, разрывало ее, хотя с виду Люба оставалась все той же скучающей, зеленоватой клушей, и даже лицо ее сделалось тверже, сильнее, что, впрочем, давало сходство с подъездной алкоголичкой, когда она питьем вовсе не увлекалась, просто много работала и быстро старела, да и с детства милашкой не была. Подумав об этом, Люба погрузилась в еще большее отчаянье. «Да», - молча сказала она себе, - «Милашкой, красивой девочкой, ладным пупсиком и голенастой принцессой я никогда не была. Но почему, почему?», она обратилась к своим небрежно крашеным ногтям... «И почему крашеным? Зачем это? Такая дурацкая, зеленая краска! Это же пошло, в конце концов». Люба недоумевала, поражалась собственной пошлости, как внезапному чудищу, выпрыгнувшему из-за спины. Поликарп – груда облезлых мышц и распаренного мяса, любимый муж, оборачивался вкруг ее правой, сдавленной руки, она разглядывала его уверенную щеку и, закинутый в случайную сторону, глаз. Он кисло улыбался и маленькие, круглые капельки пота на недавней щетинке поперек подбородка поблестывали в качавшихся огнях электрички. Из разверстых дверей показался новый господин – облаченный в продырявленную, многослойную куртейку, пожилых лет, подпитый, веселый, туманный человек с гармошкой в темных, мозолистых руках. Он давил известные народные мелодии и плавно шел, останавливаясь каждый шаг и хлестко глядя в пассажиров, притом взгляд его оставался косоват и пугающ. Его смуглая кожа пестрела синими, расплывчатыми рисунками, а от болтающейся, растянутой, грязной кофты пахло селедкой. Когда вихрастый слушатель вдруг отставил плеерные мелодии и протянул гармонисту – видимо, из солидарности, как музыкант музыканту – протянул гармонисту прозрачные десять рублей, тот, продолжая играть, вовсе не изменился в лице, беззубая улыбка разве что расплывалась, вихрастый не знал, куда положить подаяние, он очень смутился, но не мог отступить и, подрагивая от некоего отвращения, потянулся к оттопыренному жесткому карману играющего, и тот согласно кивал. Кое-как второпях запихав эту десятку, мальчик успокоился, хотя она довольно небрежно торчала – и никто больше не подавал музыканту. И когда он дошел до середины вагона, бумажка сама по себе выпала, улеглась среди стоптанной грязи. Мужчину неохотно толкали, окликали, но он играл все свое и пьяно улыбался, так и ушел. Ехать было еще достаточно. Сонность рассеялась. Любовь отчаянно думала о пророненной бумажке, невольно сожалела о несчастной судьбе незнакомого гармониста, и о своей дурацкой, как ей подумалось вдруг. Она растормошила скрюченного мужа. - Ты любишь меня? - О, да, да, - сказал он с вдохновением моржа. С этими словами он еще сильнее сжал жену и стал поглаживать ее лопатки, внушительно надавливая. Люба смотрела в его усталые, рабочие глаза и подметила, что в них столько же электричества, сколько и окнах, и в бесконечных фонарях вдоль железной дороги и гремящих наушниках вихрастого юноши. - А что такое? - Все хорошо. У тебя остались сигареты? - Да, - мотая непонимающей головой, крупный карп перевернулся, чтобы потрясти свою одежду; откуда-то выпала худая, коричневая пачка, - а чего это ты курить? - Что-то захотелось, ты лежи. - Ну... Он согласно закатил глаза и мигом окаменел. Люба протолкнулась через спящее, два раза оперевшись на поручни и случайно задев чемодан со свинцовыми углами. Уходя в тамбур, она не оглядывалась. Двери разъехались с треском, вонь и прохлада окутали зеленую женщину с ног до головы. Сначала она курила жадно, думая что-то неясное и тоскливое, будто в дыме сгорала вся нахлынувшая сумятица, но вскоре, вновь невольно увидев себя, она ужаснулась и сигарете – и в ней заключалось что-то страшное, ленивое, худое и даже смрадное, чему Люба не могла подобрать слов. Сигарета с искорками скатилась в щель на шпалы. На следующей станции пронеслась цветная, кипящая гурьба цыганят, в их тонких, обшарпанных тельцах Люба находила подтверждение тому смрадному, что настигло ее существо и ее мир. Она не могла заставить себя вернуться. Но она не знала куда бежать – бежать надо было и от себя в том числе. Она находила, что все составляющее ее – так же неизбежно и глупо, как все другие предметы и люди вокруг. Одежда только подчеркивала неизбежность, но главный упадок горел внутри – во всех движениях Любы, беспомощных и тяжелых движениях, в ее дыхании, в ее мыслях и в ее вздыхающем, сморщенном лице, которое то загоралось, то потухало в мельтешащем отражении. На миг сквозь отражение, в больном, громоздком небосводе засветилась яркая, глубокая синева, сквозь тысячи грязных, хлопчатых, задымленных слоев, в оглушающей синеве возникло алмазное лицо. Любовь вскрикнула – это видение было в детстве, всего один раз, когда она, ничего не зная о жизни и о себе, считала, что приблизиться к такой синеве возможно и необходимо для каждого. Благоухающее лицо разрасталось и пуще и дольше сияло, охватывая огромные, безликие человеческие поля, осеняя их старость и бессмысленность – и затем все исчезло, кругом все так же громыхали неровные железяки, пахло мочой, ходили усталые, немые люди и Поликарп, расплывшийся на сиденьях, размышлял о голых жениных ляжках, в которых даже не было никакого сияния, которые давно готовились стать землей, как и все остальное; и Любовь вскрикнула, увидев чужую, замшелую пустоту, ожидающую поцелуев и признаний; люди, рыхлые мешки, зажившиеся и спутаные, безразлично пребывали в скрежещущем мире. И Любовь вскрикнула, ощутив себя их частицей, частицей – в самом скопе их, как вскрикивает тень среди ночных завесей и лавин. Как перестать быть? – спросила себя зеленая клуша, и ее отчаянье выпало от собственной тяжести за границы мира. На следущей станции Люба выбежала на платформу; бежала, бежала, через переходы, пустые рынки, дышащие забвеньем закоулки, пестрящие глазками и смешками сборища животных и людей, пьяных, пьяных усталостью, глупым гневом. Глупым гневом и глупой усталостью – повторяла себе Любовь, стараясь не думать о собственном бездарном существе, избавляясь от него, отгрызая от него куски. Над неизвестным поселком сияла синяя ночь и где-то – невидимые сады и блаженные города. Поезд с мужем уехал. |
Последние посетители
Комментарии
Вам не оставили ни одного комментария, Марк Кирдань.
Друзья
|

|
Текстовая версия | Сейчас: 1 Ноя 2024 - 02:57 |


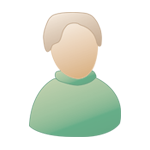



 13 Апр 2013 - 22:20
13 Апр 2013 - 22:20